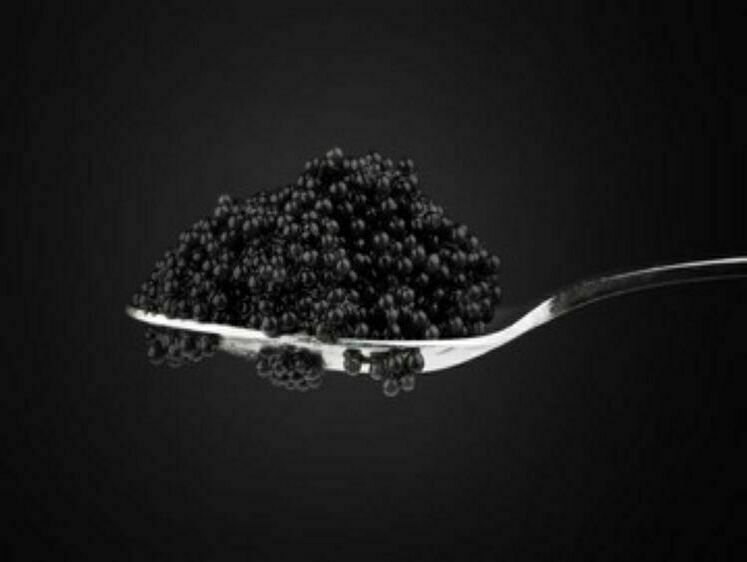Дареному бюсту в лицо не смотрят
Есть памятники, которые являются, так сказать, лицом Петербурга: величественный Медный всадник или Екатерина Вторая в знаменитом «Катькином садике», прекрасные кони Клодта на Аничковом мосту или конная статуя Николаю I на Исаакиевской площади. Между тем появляется и немало новых сооружений. Некоторые стали уже привычными и любимыми — например, памятник фотографу Карлу Бyлле на Малой Садовой или фигурка кота, посвященная блокадным усатым-полосатым, на улице Композиторов, а также композиция «Сон Менделеева» на бульваре-однофамильце великого химика и так далее.
Довольно много памятников и инсталляций было преподнесено в дар городу в 2003 году, когда Северной столице стукнуло три столетия. Например, в парке 300-летия Санкт-Петербурга высится фигура Франциско де Миранде, презентованная властями Венесуэлы. Кое-кто удивляется: какое отношение имеет к Петербургу известный революционер, борец за независимость испанских колоний в Южной Америке? Другие возражают: это как посмотреть, ведь у нас все-таки революционный город. Впрочем, памятник де Миранде — не единственный спорный монумент, доставшийся Северной столице в качестве презента.
Серьезные разногласия среди горожан вызвала и стеклянная «Башня мира», красовавшаяся до 2010 года на Сенной площади. Это был подарок Франции, а именно писателя Марека Хальтера. Панели башни быстро потрескались, потускнели надписи (на монументе было выгравировано на пятидесяти языках слово «мир»). Сооружение решили не восстанавливать и демонтировали, тем более что в его адрес звучало много критики. Не лучшая участь постигла и корейские деревянные тотемы, установленные в 2003 году в парке Сосновка. В 2015-м, по свидетельствам очевидцев и публикациям в прессе, часть идолов срезали бензопилами и раскромсали на чурбаки некие религиозные фанатики. Оставшиеся же «в живых» тотемы выкопали и вывезли на грузовиках, по слухам, в лабораторию Политехнического университета, где якобы было установлено, что древесина изъедена грибком и не подлежит реставрации. Итог — милых тотемов со смешными рожицами, к которым так привыкли гуляющие по Сосновке, больше нет.
В общем, можно сказать, что с «неугодными изваяниями» в Петербурге не церемонятся. Поговаривают, часть юбилейных даров хранится в запасниках, а то и вовсе на задних дворах городских музеев.
Великие и ужасные
Мнения горожан о современных памятниках, скульптурах и арт-объектах часто диаметральны. Так, далеко не каждый способен понять и оценить памятник Академику Сахарову, который выполнен, скажем так, в очень своеобразной манере (см. фото).
«Памятник Сахарову скульптор Левон Лазарев создавал в своей мастерской, он прежде всего старался передать дух этого великого ученого и, вероятно, не надеялся на то, что монумент будет установлен, — рассказывает «МК в Питере» художник-скульптор, обладательница высшей награды конкурса «Звезда академика Дмитрия Сергеевича Лихачева» Светлана Серебрякова. — Есть два подхода: один относится скорее к станковой скульптуре, которая больше передает образ, второй — к градостроительной, когда скульптор изначально знает, куда поместят его произведение, в какое пространство, каким будет ансамбль. В мастерской Левона Лазарева этот памятник смотрелся хорошо, органично. Но когда его поставили на площади, он стал выглядеть по-другому. Если бы над этим проектом серьезно поработал архитектор, смог найти подходящий пьедестал и организовать пространство, чтобы эта скульптура «держала» всю площадь, это было бы другое дело. Сейчас — да, он смотрится своеобразно. Помню, как, проходя там, я встретила пару иностранцев. Они сказали, что монумент похож на какой-то юмористический образ. А скульптор постарался передать образ ученого в живой манере лепки, без учета архитектуры».
Очень смущает некоторых горожан и шестиметровый валенок. Сложно сказать, каким эстетическим принципам соответствуют такие арт-объекты. Но, пожалуй, для меня, как поэта, самое печальное — лицезреть довольно странное изваяние, созданное в честь Бродского и установленное в городе в 2016 году. Пышных торжеств по поводу его открытия, по имеющимся у меня данным, не было, восторженных отзывов тоже. При взгляде на «памятник» понимаешь почему: художественная ценность этой работы, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Эксперты же, к которым обратился «МК в Питере», предпочли не комментировать эту работу.
Во время личной устной беседы с представителем комитета по градостроительству я узнала много подробностей о том, какую длительную процедуру утверждения проходят все проекты будущих архитектурных объектов, представленные в монументальную секцию. Как объяснил пожелавший остаться анонимным чиновник, это многоступенчатая система строгого отбора, соответствующая законодательству. Вот интересно только, откуда же берутся такие, не постесняюсь собственного определения, уродцы, как несчастный каменный Бродский? Или сегодня уже настолько иссяк запас талантливых мастеров, что дела поручают, я бы сказала, художникам от слова «худо», которые, по всей вероятности, считаются не бездарными, а продвинутыми...
История несбывшегося памятника
И в то же время в городе до сих пор нет памятников, пусть даже нелепых, людям, которые прославили город. Не стоит напоминать о том, какое значение для страны имеет великое наследие братьев Стругацких, как они популярны не только в России, но и во всем мире и какую гордость испытываем мы, петербуржцы, от того, что они жили рядом с нами. Аркадий Стругацкий ушел из жизни в 1991 году, его брат Борис — в 2012-м.
Одним из тех, кто продвигал идею создания и установки в Петербурге памятника братьям Стругацким, был меценат Юрий Жорно. Он предположил, что скульптуру можно разместить на Московском проспекте, у дома, где жили Стругацкие. Депутат Заксобрания Борис Вишневский поддержал эту идею, она встретила понимание, и в результате площадь назвали именем братьев Стругацких.
Вдохновившись началом воплощения замыслов, благотворитель Юрий Жорно озвучил идею установки памятника на площади, а глава администрации Московского района предложил создать целый архитектурный ансамбль. Говорил, что можно поставить и не только памятник двум гениям, но и скульптуры по мотивам произведений великих творцов.
Планы конкретизировались, и меценат Юрий Жорно начал действовать.
Примерно три года назад он подал заявку на установку памятника. Но по законодательству Санкт-Петербурга, если не прошло 30 лет со дня смерти увековечиваемого лица, требуется разрешение губернатора. Через комитет по градостроительству покровитель проекта передал обращение градоначальнику, однако реакции не последовало.
Градостроители объяснили, что добиваться специального разрешения губернатора придется долго, но есть другой путь: внести Стругацких в список увековеченных лиц Санкт-Петербурга, он утверждается Заксобранием раз в три года. Юрий обратился в администрацию Московского района, поскольку такое ходатайство осуществляется по инициативе соответствующего государственного органа. В итоге имена писателей внесли в этот список. Правда, оказалось, что те, кто находится в данном перечне, могут быть увековечены в камне только государственным заказчиком и финансироваться работы должны из госбюджета. Таким образом, по сути, благотворитель был введен в заблуждение и для него закрылась возможность реализации проекта собственными силами.
Сейчас Юрий Жорно ищет пути для исправления ситуации. Выяснилось, что для того, чтобы дать филантропам возможность финансировать общественно значимые проекты, нужно внести в закон соответствующие изменения: разрешить оплату не только из государственных источников, но и по заявлению ответственных частных лиц. Вот уже два года обсуждаются эти дополнения к законодательству. Учитывая, что накопившиеся вопросы выносятся на обсуждение депутатами раз в полгода, за это время, предположительно, можно было уже четыре раза принять какое-то решение. Однако по сей день дело с мертвой точки не двигается.
Получается, что инициатива мецената, уже установившего восемь памятников в Петербурге (Анне Ахматовой напротив «Крестов», Доменико Трезини, Виктору Цою и других), тонет в бюрократической рутине и бесконечных препирательствах с чиновниками. Юрий Жорно уже два года пишет обращения в государственные инстанции о том, что готов раз в два года проектировать и устанавливать в городе памятник какой-либо выдающейся личности на свои средства, что располагает для этого специалистами, производственными мощностями — всем для полного цикла воплощения идеи от эскиза до исполнения. Он представил властям несколько интересных проектов, готовых к реализации, но, похоже, это никому не интересно. Ответы из ведомств приходят, однако вполне очевидно, что они носят чисто формальный характер.
Непростая ситуация сложилась и с проектом памятника великому петербургскому ученому советской эпохи Юрию Кнорозову, который прославился на весь мир, первым расшифровав рукописи племен майя. Ему установлено несколько монументов в разных странах, имя исследователя широко известно в Латинской Америке. Выдающийся историк, лингвист и этнограф Кнорозов работал в музее антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера». Мемориальный комплекс со скульптурой ученого предполагалось возвести между «Кунсткамерой» и зоологическим музеем, но руководство знаменитого хранилища разрешения не дало.
«Никакой поддержки меценатам со стороны города нет, — резюмирует Юрий Жорно. — Во всяком случае, я ни разу не увидел ее за последние 10 лет. От нас отмахиваются как от мух, и, когда мы приходим с вопросами, мы их (чиновников. — Прим. ред.) даже раздражаем». Выходит, памятники — они как люди: одни более удачливые, другие нет, одни красивые и гармоничные, другие странноватые или даже пугающие. А их судьбы, как и людские, зачастую зависят от чьих-то, порой не самых правильных, решений или от их отсутствия.