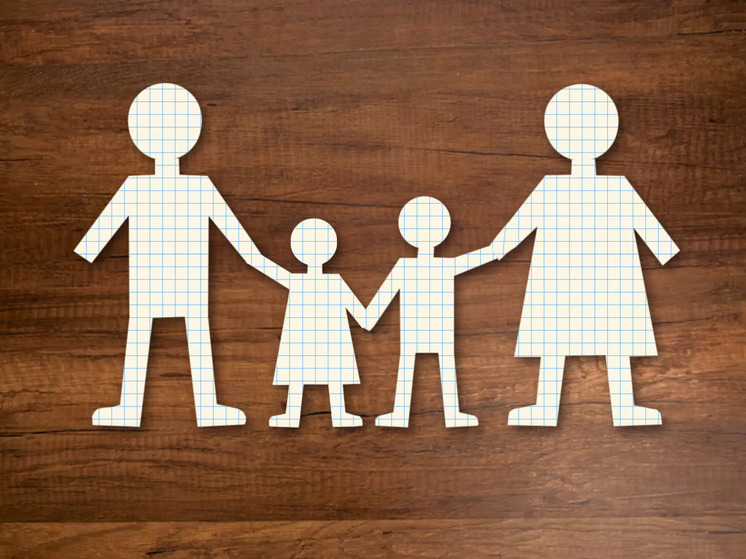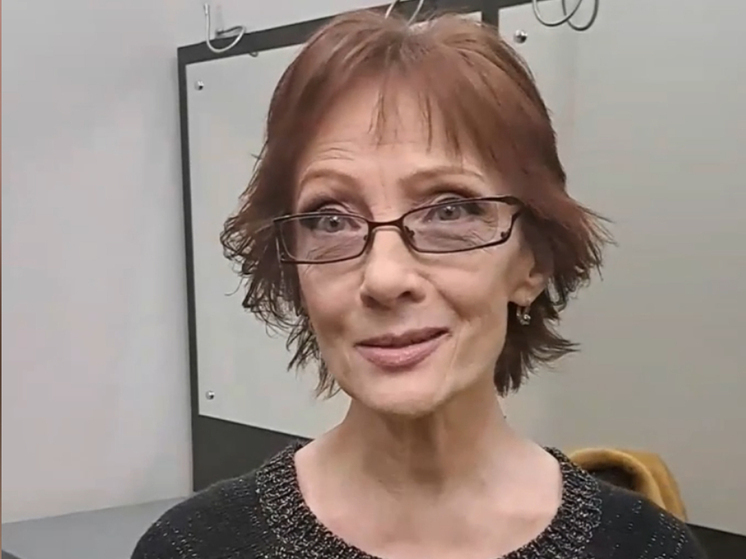Брат перепродавал брату пластинки
— В 16 лет я начал изучать русский язык. И тогда же стал интересоваться классической музыкой. Когда моему брату, который на три года старше меня, надоедала какая-нибудь пластинка, он перепродавал ее мне. Первым ему надоели Чайковский и его увертюра «1812 год», следом Бетховен. Со временем у меня сформировался собственный вкус, и я стал приобретать пластинки не только у брата. Однажды купил Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича. Мне тогда было 17 лет. С тех пор этот композитор всегда со мной. Долгое время я не интересовался его жизнью, ничего о нем не знал. Но после того, как прочитал книгу Соломона Волкова «Свидетельство» (записанные и отредактированные им воспоминания Шостаковича. — Ред.), был поражен. В истории западной музыки нет никого, кому пришлось бы выдержать такое преследование и пресс со стороны властей. Давление, оказываемое на Шостаковича, было уникальным. Конечно, писателям в СССР приходилось еще хуже, чем композиторам. Писателей обвиняли на первой странице «Правды», и это приводило к их смерти. А композиторов — на третьей странице, и они оставались живы. Но в любом случае было очень опасно, если вас в официальной партийной газете называли врагом народа. Однажды я задумался: при каких вождях людям искусства жилось хуже? Например, Ленин считал, что музыка депрессивна и гнетуща, Сталин был уверен, что понимает музыку, а Хрущев ее презирал и терпеть не мог. Я думаю, хуже всего тот лидер, который считает, что понимает музыку. А как, кстати, относится к ней мистер Путин? Интересуюсь просто как гость вашей страны.
Гвоздь в крышку гроба Тайманова
— В ходе моей писательской карьеры запретили только одну мою книгу — в Южной Африке. Самый первый роман «Метроленд» (о поколении 60-х годов прошлого века. — Ред.), его посчитали слишком грязным. Мои родители, кстати, думали так же. В этом смысле они сошлись с южноафриканскими властями. А недавно я узнал, что другой мой роман «Предчувствие» запрещен в Иране. Ну и пусть. Эта страна все равно не придерживается конвенции об авторских правах, поэтому даже если бы запрета «Предчувствия» не было бы, мне бы все равно никто не заплатил. В общем, как видите, моя собственная творческая жизнь была спокойной, я никогда не ощущал давления властей на своих плечах. Довольно трудно вообразить, что мне надо написать, чтобы у меня начались какие-то проблемы. Разве что сатирический роман об «Исламском государстве» (террористическая организация, запрещенная в России. — Ред.). Но так бывает не всегда и не со всеми. Например, в ноябре умер знаменитый российский шахматист Марк Тайманов. В 1971 году он играл в четвертьфинале чемпионата мира по шахматам против Бобби Фишера. И проиграл со счетом 0:6. Советские власти не могли понять, как может американский капиталист, да еще и безумец (к 30 годам Фишер сошел с ума. — Ред.) с таким разгромным счетом победить советского шахматиста. Не иначе как это предательство... Поэтому, когда Тайманов вернулся в Россию, у него обыскали чемодан, нашли какие-то доллары, которые ему заплатили за статью для голландского журнала, и книгу Солженицына. Это стало поводом, чтобы объявить его персоной нон грата, запретить играть в шахматы на открытых турнирах, перекрыть источники дохода. Все это привело к тому, что распалась его семья. А спустя два года оказалось, что он автоматически отобрался на межзональный шахматный турнир, который проходил в Ленинграде. И советским властям стало несколько стыдно исключить его из игры в собственном городе. Бюрократ, который сообщил Тайманову, что он реабилитирован, признался: «У нас был выбор: либо до конца забить гвоздь в крышку вашего гроба, либо вытащить его полностью». Страшное высказывание. То есть это просто дело случая — продолжится ваша карьера или закончится навсегда.
Страх сделал великим?
— Я несколько раз, в том числе от Валерия Гергиева, слышал теорию, что именно страдание сделало Шостаковича великим. Якобы страх перед возможным арестом, репрессиями, Сталиным преобразовался у него в великое искусство. А если бы не было этого страшного давления государства, то, может, он и не написал бы своих знаменитых симфоний. Я категорически с этим не согласен! Давайте не будем забывать, что Шостакович думал (и многие были с ним согласны), что его величайшими произведениями станут оперы. Он написал «Леди Макбет Мценского уезда», которая была запрещена на протяжении практически всей его жизни. После этого он больше не создал ни одной оперы, и его карьера как оперного композитора была закончена! И как после этого можно говорить, что насилие ему помогло? Хорошо бы провести эксперимент: отнять у какого-нибудь писателя все его деньги, оставить его чуть ли не умирать с голоду, запретить публиковаться, а потом посмотреть, напишет ли этот несчастный гениальный роман. Я думаю, вряд ли.
Глупая и аморальная война
— Представители коммунистической партии все время старались уговорить Шостаковича на какие-то политические комментарии, а он просто хотел жить в своем мире и писать музыку. В этой связи возникает вопрос: а должен ли вообще художник участвовать в политической жизни? Я могу процитировать Флобера, который говорил: «Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости; но окружающее ее море дерьма поднимается все выше». Так что ответ: нет, ни в какой башне закрыться от мира нельзя. Разве что поставить ее на необитаемом острове. Но вообще, конечно, каждый сам выбирает линию своего поведения. На одном полюсе вы обязательно увидите художников, писателей, которые считают, что постоянно комментировать состояние общества — это их обязанность. На другом полюсе — люди, которые витают в облаках и занимаются искусством ради искусства. А я где-то посередине. Например, когда началась война в Ираке — одна из глупейших, аморальнейших и незаконных войн в истории, — я об этом писал. А когда произошел брекзит, я промолчал. Хотя затея с выходом из ЕС была глупая. Но об этом и так все писали, и ничего нового к их словам я добавить не мог.
Россия с аншлагом
— Недавно я был в Третьяковской галерее. На портретах там — все знакомые лица. Пушкин, Лермонтов, которого я обожаю, Толстой — сначала как молодой идеалист, затем как сердитый старик, Тургенев. Портреты последнего Третьяков заказывал несколько раз. И все они Тургеневу не нравились, он говорил, что выглядит на них каким-то уродом. Я ходил по Третьяковке, и мне казалось, что я вижу на портретах своих старых друзей. Потому что русская литература — это моя особая любовь. В юности я даже читал в оригинале «Асю» Тургенева, «Детство» Толстого, хотя это было для меня уже тяжеловато, и немного Чехова. Он, кстати, для британской аудитории — величайший драматург мира. Ну, после Шекспира, конечно. Хотя, на мой взгляд, «Дядя Ваня» лучше большинства пьес Шекспира (только вы в Лондоне об этом никому не говорите). Не так давно в Королевском Национальном театре ставили три пьесы Чехова: «Иванова», «Платонова» и «Чайку». И они шли с утра до вечера, по три представления в день. Аншлаги были постоянные, лондонцы стояли в очереди, чтобы попасть на Чехова. Почему? Я не хочу сейчас много теоретизировать, но мне кажется, что между русскими и британцами есть некая духовная параллель. Мы похожи тем, что за формальной строгостью русской и британской души спрятано что-то меланхоличное, печальное. И иногда оно проступает.