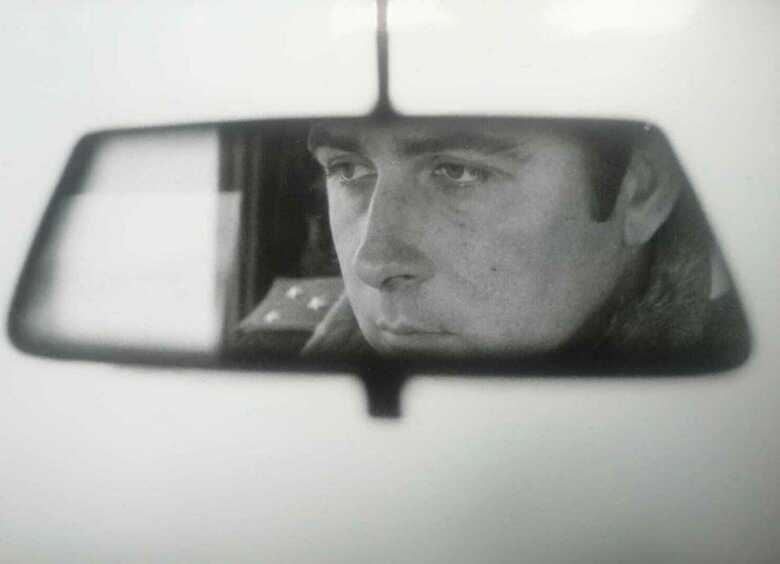СТРАННЫЕ ПОСТУПКИ
Лидерство среди неадекватных хулиганств с последствиями держит история с выброшенным в окно унитазом. Это случилось 31 августа 2021 года в Мурино. Вышвырнутое фаянсовое изделие приземлилось аккурат на автомобиль, припаркованный под окнами одного из домов, расположенных на Воронцовском бульваре. В соцсетях предполагали, что это сделали подростки.
Случай с унитазом не одинок — есть и другие удивительные истории, которые произошли в последний месяц. К примеру, 27 августа полицейские в Кудрово задержали мужчину, сначала громившего автомашину, а затем начавшего бегать по капотам припаркованных авто. Хулиган был совершенно обнажен.
Еще за несколько дней до этого некий мужчина проник на территорию частного детского сада в Кудрово. Он забрался на крышу беседки, затем скинул с нее телефон и скрылся. Позже полиция сообщила, что он находился в неадекватном состоянии.
Ранее, впрочем, подобные происшествия тоже случались. К примеру, еще в марте 2021 года в Мурино хулиган на протяжении нескольких часов портил ножом припаркованные чужие машины. А в январе жителя Кудрово оштрафовали за поездку полуголым на капоте автомашины по Невскому проспекту.
Растет и агрессивность людей, причем в самых бытовых вопросах. Так, в июле этого же года в Мурино подрались две женщины на детской площадке. Одной из них не понравилось, что вторая «припарковала» детскую коляску на газоне.
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ И ИНФАНТИЛИЗМ
Что это? Почему люди вдруг стали вести себя так странно и агрессивно? Об этом мы поговорили с профессиональным психологом высшей квалификационной категории, педагогом Еленой Смирновой.
— У меня есть системное видение того, что я наблюдаю. Если коротко, то у нас нет толком никакой системы образования: существовавшую разрушили, а новую не построили. Патриотизм толком не воспитывается. Очень много формальностей. Есть школы, которые придерживаются традиций, и оттуда выходят действительно воспитанные ребята. Хотя основа, конечно, семья, и в Петербурге много семей, которые уделяют детям много внимания. Но много и приезжих, у которых таких традиций нет. Это меняет среднюю культурность города, привносит в него новые традиции. Многие из них прекрасны, но бывают и такие.
Плюс ко всему безнаказанность. У наших детей слишком много информации о своих правах и о том, что они могут, но очень мало информации об обязанностях и о том, что ответственность за некоторые преступления наступает уже с 14 лет. Но подростки таковы, что им все нужно пробовать на собственном опыте.
Что касается взрослых, то здесь, я считаю, большую роль играет достаточно высокая доступность алкоголя и разных веществ. Это, конечно, влияет на их поведение.
— Влияет ли густонаселенность района на повышение стресса у людей?
— Густонаселенность провоцирует стресс, если, например, семья из четырех человек живет в одной комнате. Безусловно, это конфликты, стрессы, которые могут привести и к трагедии. Но если мы говорим про густонаселенные районы, здесь история другая. Все на виду, ни от кого не спрятаться. Например, появилось у подростка желание похулиганить — и тут человек вечером идет в одиночестве. Это возможность. А не было бы возможности — и хулиганства бы не случилось. И кажется, что это безнаказанно. Когда район густонаселенный, все границы путаются, и люди легче идут на правонарушение, потому что нет ни своих границ, ни чужих. Слишком много нас тут, на этом кусочке.
— Может ли играть роль потребность в эпатаже?
— Это личностная черта. Подростковый возраст людей, по стандартам Всемирной организации здравоохранения, заканчивается теперь почти в 30 лет. Раньше психологи говорили, что зрелость наступает в 21 год (к этому времени полностью развивался мозг и формировался характер). А теперь считается, что зрелость наступает позднее, ближе к 30, потому что у нас растут инфантилы. У нас сейчас вырастает поколение детей, у которых не было недостатка в самом необходимом, у них всегда все было. При этом родители делают за них многое, и потому дети вырастают неспособными что-то делать сами. Они опускают руки при первой неудаче, они неспособны брать на себя и нести ответственность за поступки, они валят свои неудачи на то, что город плохой, правительство плохое, родители плохо воспитали. Это инфантилизм.
А потребность в эпатаже и демонстративности — это особенность подросткового возраста, в котором сталкиваются противоположности: с одной стороны, я хочу выглядеть точно не как все, а с другой — очень значима референтная группа, в которой меня принимают таким, какой я есть. И если человеку 30, а он все еще подросток — он будет склонен к эпатажу.
И еще, если говорить про системные вещи, у нас очень много информации в сети и для взрослых, и для детей, которая не является здоровой. Ну то есть, с моей точки зрения, очень много психотических вещей: шизоидных, демонстративных, стероидных. А люди считают, что это норма. Очень хороший пример — недавно вышедший фильм «Джокер». Если родители не могут объяснить подростку, что хорошо и что плохо, то он может начать считать, что Джокер — крутой чувак, он хорош, и на него можно равняться.
— Социальные сети как-то это провоцируют?
— Они не провоцируют. Они — проводники. Не зря же мы сталкиваемся с тем, что вот у нас в социальных сетях были разные «группы смерти», затем они трансформировались, потом появилось целое направление, пропагандирующее нанесение травм себе и другим. И все это приходит через соцсети. И если дети не понимают хорошо разницу между добром и злом, столкнувшись с подобным в соцсетях, они могут попасть в ловушку и поверить.

ЛИЧНОСТЬ РАЗМЫВАЕТСЯ
У социологов тоже есть объяснение происходящему с научной точки зрения. Как это видят исследователи, «МК в Питере» рассказала доктор социологических наук, профессор, доктор социологических наук, доцент кафедры «Социология» Тольяттинского государственного университета Евгения Желнина:
— Данная проблема может быть объяснена несколькими социальными феноменами. С одной стороны, процесс урбанизации запустил механизм деперсонализации личности. В больших городах личность размывается, на первый план выходят социально-статусные ее характеристики. В то время как в небольших населенных пунктах, в деревнях социальное взаимодействие строится именно на личностной основе. В связи с этим у жителей мегаполиса появляется мнимое ощущение анонимности: «в городе очень много людей, которые меня не знают», тогда как в малочисленной деревне все прекрасно знакомы друг с другом, практически все обо всех знают. Поэтому, как следствие, по-разному выстраивается в этих разных населенных пунктах (мегаполисах и деревнях) социальная ответственность их жителей, что может влиять на уровень преступности. С другой стороны, в мегаполисе очень высокая плотность населения. Это способствует тому, что идет постоянное нарушение социальных и личностных границ жителей — маленькие лифты в больших многоквартирных домах, переполненный общественный транспорт, заполненные людьми офисы и магазины и так далее. В результате постоянного нарушения границ происходит ожесточение людей, что также может вести к увеличению уровня преступности, наблюдаемого в мегаполисах.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Подсчитать, больше ли хулиганских преступлений происходит именно в Кудрово и Мурино, — вряд ли возможно. Однако обычно статистика показывает, что чем крупнее район и чем больше людей в нем живет, тем больше в нем случается преступлений — просто потому, что плотность населения выше. С этой точки зрения бурно застраивающиеся пригороды Петербурга и впрямь имеют шансы стать антилидерами этого рейтинга.
При этом, как уверяют специалисты, занятые интересным делом люди — равно взрослые и дети — не стремятся совершать хулиганских поступков. Они могут реализовать себя в другом. И возможно, решением проблемы роста преступности, по крайней мере подростковой, могло бы стать открытие в густонаселенных районах большого количества различных кружков и клубов, доступных жителям территориально и финансово.