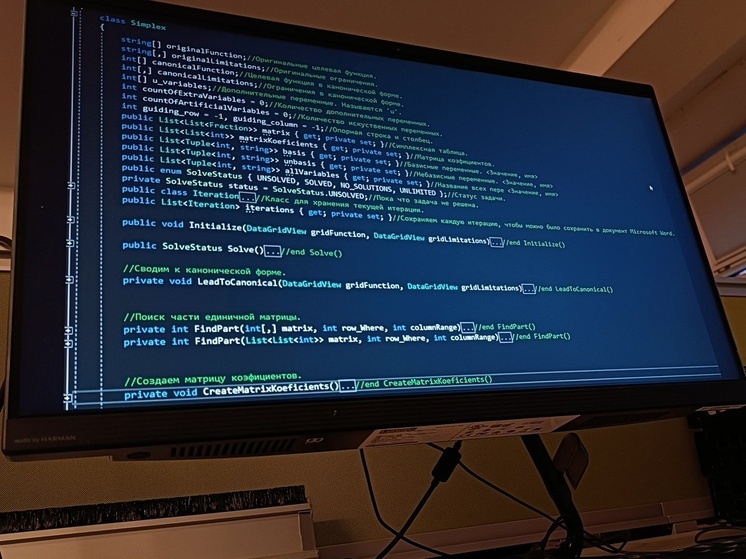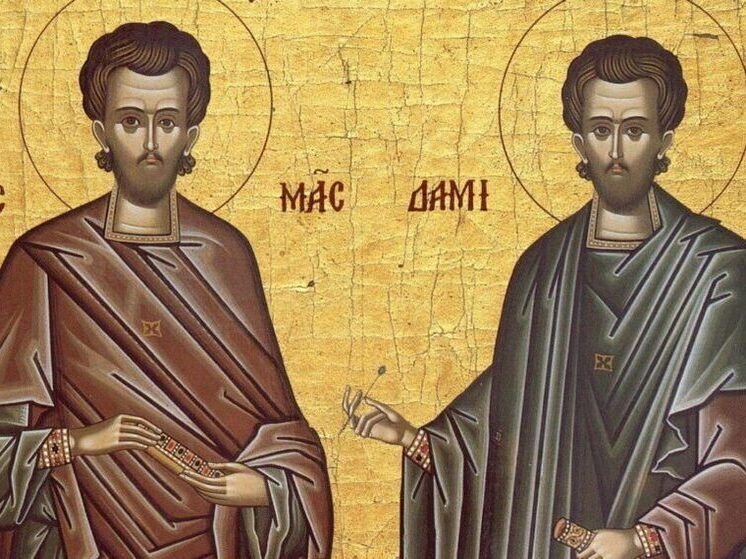Прибежище для странников
— В Средневековье существовали рыцари-госпитальеры, — говорит Андрей Гнездилов, который по-прежнему работает врачом-психотерапевтом в основанном им хосписе. — Они брали на себя духовное служение, оберегали паломников, которые шли на поклонение святым местам. Эти рыцари организовывали монастыри, служившие прибежищем для странников. Они назывались «хосписы». От слова «хоспиталити» — гостеприимство. Жизнь любого из нас можно представить как такое странствие. Тогда понятнее становится и главная идея современного хосписного движения. На мой взгляд, это стремление быть рядом с больным, разделить с ним его дни, сделать жизнь качественнее, купировать боль. Мы понимаем, что вылечить его не можем, но зачастую даже простое присутствие человека рядом способно облегчить жизнь умирающего. Меня часто спрашивают близкие больного, что принести ему? Подаришь цветы — он подумает, что его хоронят. Принесешь фрукты, а он их есть не может. Я в таких случаях говорю: просто придите. Это называется терапия присутствия.
— А как возникло в России хосписное движение?
— Еще в начале 70-х годов мне довелось помочь одной женщине, которой поставили диагноз «рак». Ей была необходима операция, но она не могла перешагнуть порог больницы, потому что ей было страшно. Я помог ей справиться с этим. Потом навещал ее в палате. Тогда-то я и понял, что в подобных учреждениях совершенно необходим психотерапевт. Человек с диагнозом «рак» зачастую чувствует себя выброшенным из жизни. А ведь есть еще и физическая боль, которая порой оказывается страшнее самой смерти. В те годы существовала доза: 50 миллиграмм наркотика в сутки и не больше. Боялись, что иначе человек станет наркоманом. И никто не думал, имеет это значение или нет, если человек все равно умирает...
Как общаться с больными, которые обречены, врачи тогда зачастую тоже не знали.
Я начал писать письма в Минздрав, что больным с четвертой — терминальной — стадией рака надо помогать, некоторые из них живут еще больше года! Мне отписывались, что нет средств даже для перспективных больных, что уж говорить о четвертой стадии... Но в конце концов дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. Меня приняли на должность психотерапевта в НИИ онкологии. Под моим наблюдением оказалось около 200 больных, я еле успевал. Кого-то надо было просто выслушать, кто-то боялся, что не проснется после операции. Конечно, этим людям нужна была помощь. И постепенно моя работа стала приносить результат.
Верующим проще
— После этого вы и открыли первый в России хоспис?
— Тогда я еще не знал даже такого слова... В то время как раз началась перестройка. А я все дул в свою дуду: кричал о проблемах онкологических терминальных больных, что им нужна помощь, реабилитация, обезболивание. И, наконец, пошли люди, которые поверили в хосписы. Кто-то из них даже не имел медицинского образования. Многие переучивались на сестер, становились сиделками, санитарками. Идею одобрил и мэр Анатолий Собчак. Мы получили здание в Лахте, и в 1990 году открыли первый хоспис. Приехал английский журналист Виктор Зорза, который у себя в стране занимался хосписами. С его помощью я ездил в Великобританию, перенимал опыт этой страны. А вообще, нам позволили работать так, как мы считаем нужным, все предоставили, включая морфий, которого так боялись в Советском Союзе.
— Как вы помогали больным?
— Мы обезболивали, оказывали медицинскую и психологическую помощь, духовную. В том числе организовывали встречу больных с представителями тех конфессий, к которым они принадлежали. К православным приходили батюшки, к мусульманам — муллы. Сложнее в этом отношении было найти утешение для атеистов. Им приходилось говорить разве что о черной дыре, в которой все исчезает... А вообще, я заметил, что верующие люди зачастую умирают чуть легче, спокойнее, чем материалисты.
— Кто решает, можно человеку в хоспис или нет?
— Порекомендовать обратиться может лечащий врач, онколог. А вообще этот вопрос решает специальная отборочная комиссия. Если есть показания: например, не купирующийся в домашних условиях болевой синдром, другие тяжкие симптомы, усталость семьи от заболевания, страданий человека, то его можно госпитализировать в хоспис.
— У родственников не бывает ощущения, что они, соглашаясь на такую госпитализацию, в некотором роде предают своего близкого?
— Очень трудно выдержать уход за онкологическим больным. Мало у кого хватает на это сил, времени... Неслучайно мы в хосписе работаем и с родственниками больных. Конечно, все это непросто и для нас. Часто наступает очень сильное эмоциональное выгорание. Все-таки общаться с умирающими и их близкими нелегко. У обычных врачей всегда есть какая-то тайная гордость: вот этому больному я спас жизнь, а того — поставил на ноги. У нас все немного не так: мы доводим человека до конца, он умирает, а мы должны идти дальше, к следующему больному, улыбаться ему, разговаривать. Это трудно. Но с персоналом в хосписе работают психологи, существуют и специальные программы реабилитации.
Разрешение на смерть
— На вашей памяти были чудесные случаи, когда люди с последней стадией рака выздоравливали?
— В таких случаях мы предпочитаем говорить, что была ошибка диагноза. Но что точно существует, так это разрешение на смерть, которое человек сам себе дает. И пока он этого не сделал, он может жить. Вот лежит старушка, уже неизвестно, чем ей вообще дышать, а она все живет и живет. Потом к ней приехал внучек, который только вернулся из армии. Они посидели, всплакнули. Он ушел, а через час старушка умерла. Или еще случай. У одной женщины обнаружили опухоль прямой кишки. Удалять ее было уже поздно. Пациентку выписали из больницы, сказав, что все хорошо. А она прекрасно поняла, что ничего хорошего-то и нет. Сказала: «Я все равно должна жить, у меня дочка не устроена, я не могу оставить ее совсем одну». И она жила, год, полтора. А ведь ей и месяца не давали. Потом дочка устроилась в колледж, приехала родственница, которая согласилась приглядывать за ней. И вот тогда эта женщина сказала: «Вот теперь я могу спокойно умереть». И умерла. Ее тело вскрыли и оказалось, что рака-то уже нет. Хотя до этого брали биопсию. Видимо, в некоторых случаях человеческая воля может стать поперек судьбы.
Мир за стеной
— Некоторые люди, испытав клиническую смерть, рассказывали потом о необычных вещах, которые видели. Вы сталкивались с чем-то подобным?
— Конечно. Во время клинической смерти не работают сердце, мозг. А люди внезапно могут оказаться за тридевять земель в своем доме и рассказать потом, что они там видели. У меня был похожий случай. Еще во время моей работы в НИИ онкологии меня попросили посмотреть больную, перенесшую клиническую смерть на операционном столе. И она рассказывала, что, пока врачи не вернули ее к жизни, она успела побывать в своем доме, видела 5-летнюю дочку, которой соседка в этот момент принесла платье. Девочка обрадовалась, бросилась к обновке и ненароком разбила чашку. Я решил проверить все это и съездил к этой женщине домой, расспросил ее близких, что происходило в тот день. И их рассказ в деталях совпал с тем, что видела та женщина, находившаяся в состоянии клинической смерти. В другой раз я сидел возле постели умирающей из глубинки. В какой-то момент она будто пришла в себя, улыбнулась мне и сказала: «Мне сейчас привиделось, что я англичанка и должна ехать в церковь, чтобы венчаться. А зовут меня Анни». Я спросил: «Do you speak English?» («Вы говорите по-английски?» — Ред.), и она вдруг начала мне отвечать на чистейшем английском языке. Я еле успевал переводить. Хотя английского она вообще-то не знала! Вдруг глаза ее сомкнулись, она улыбнулась, откинулась и умерла.
— У вас есть объяснение, что это?
— Душа. Хочешь не хочешь, а возвращаешься к душе. Напрашивается объяснение, что она будто вспомнила свои прежние жизни. Я в свое время рассказывал подобные истории, свидетелем которых становился, Наталье Бехтеревой (знаменитый советский и российский нейрофизиолог, научный руководитель Института мозга человека РАН. — Ред.). И она мне как-то сказала: «Никто лучше меня не знает строение мозга. Но я иной раз чувствую, будто стою перед стеной, за которой огромный, разумный, прекрасный и справедливый мир...».
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.